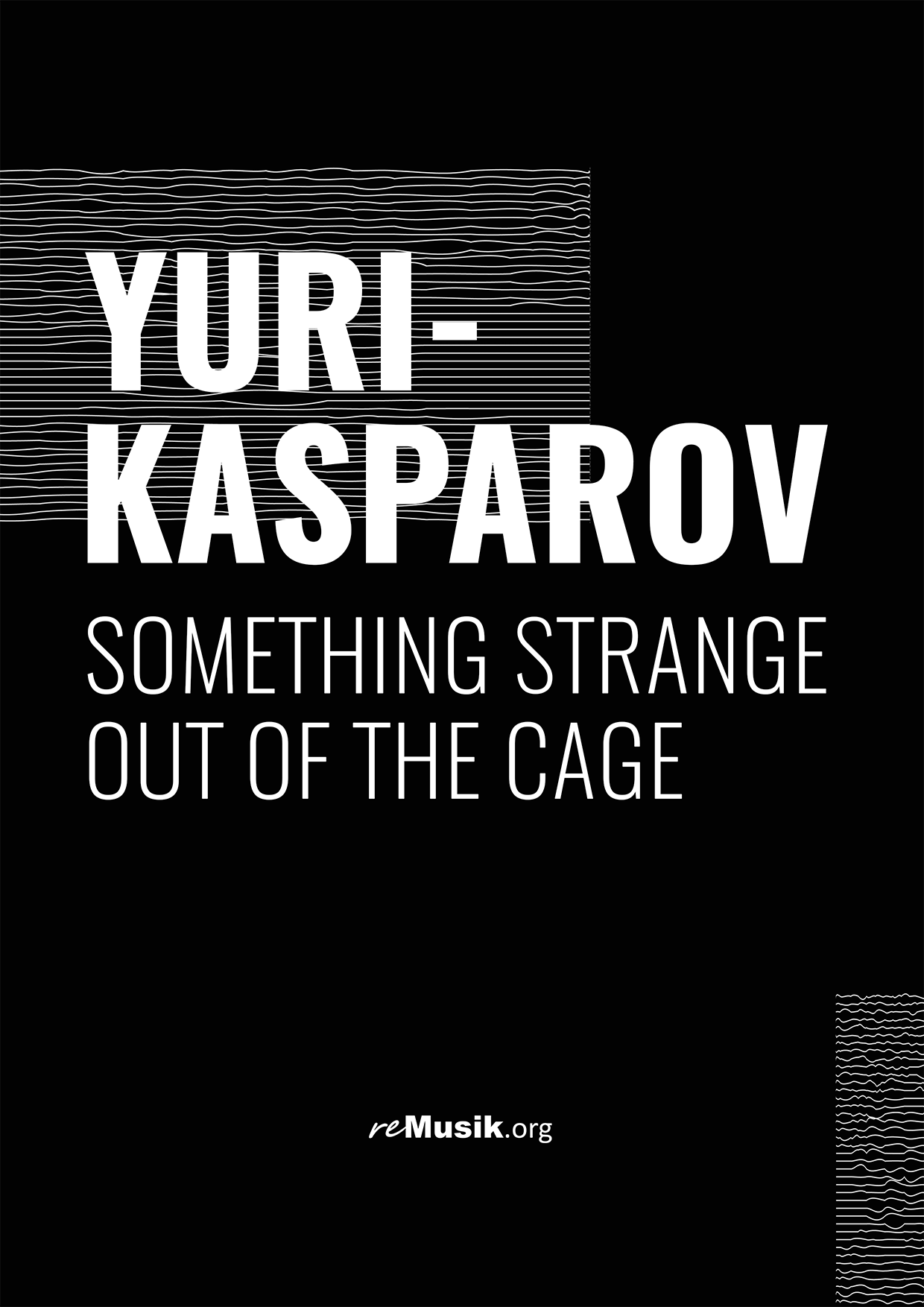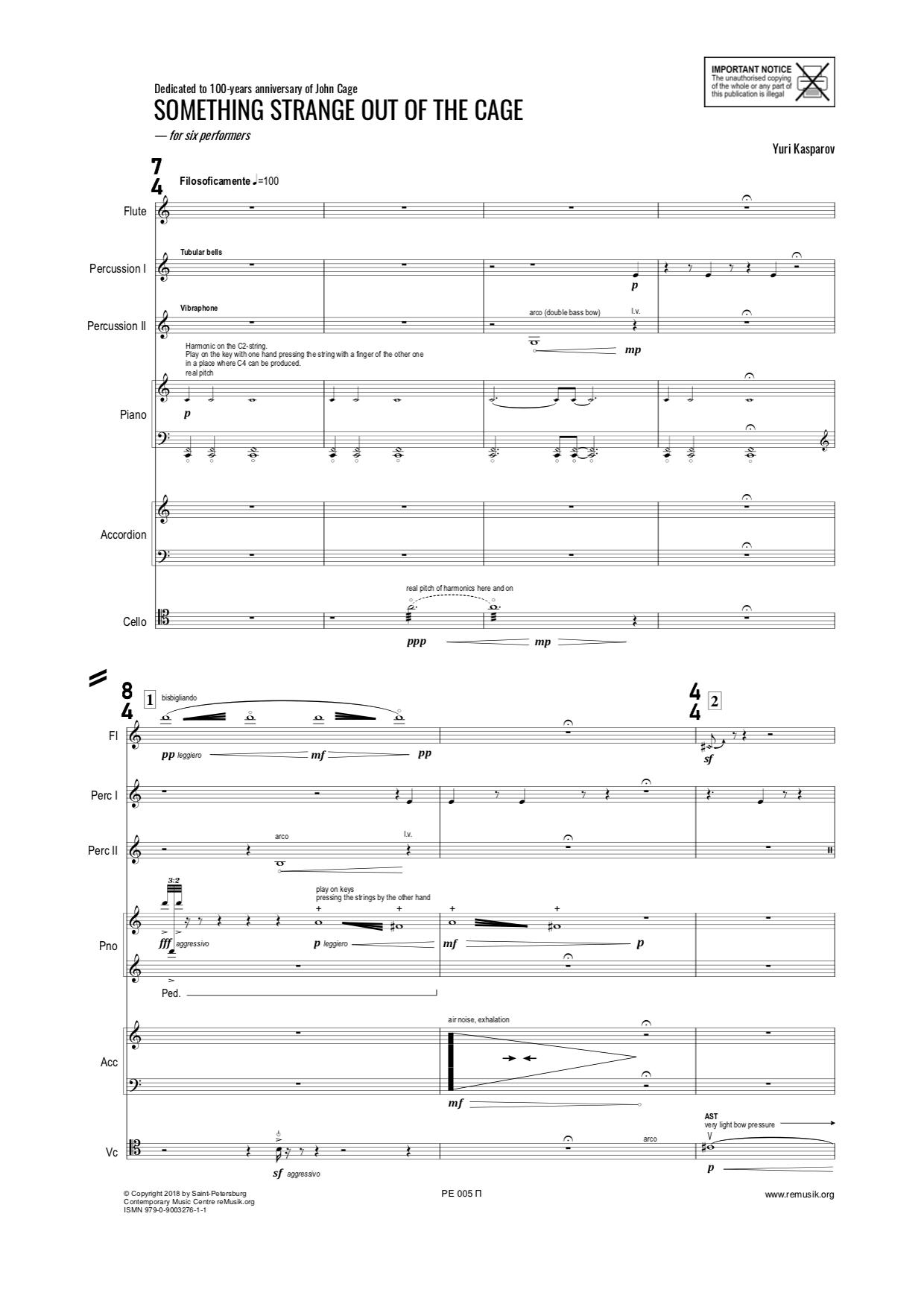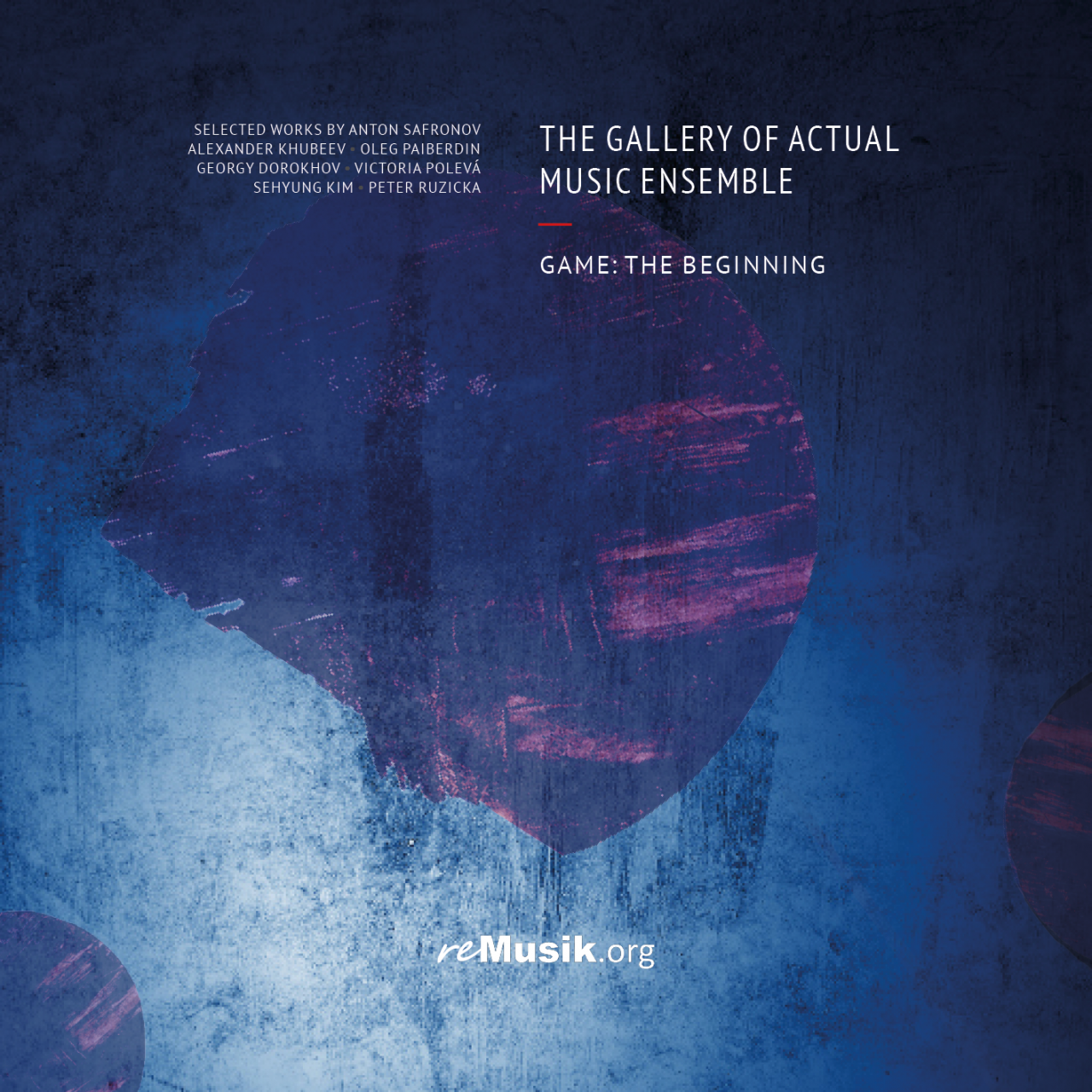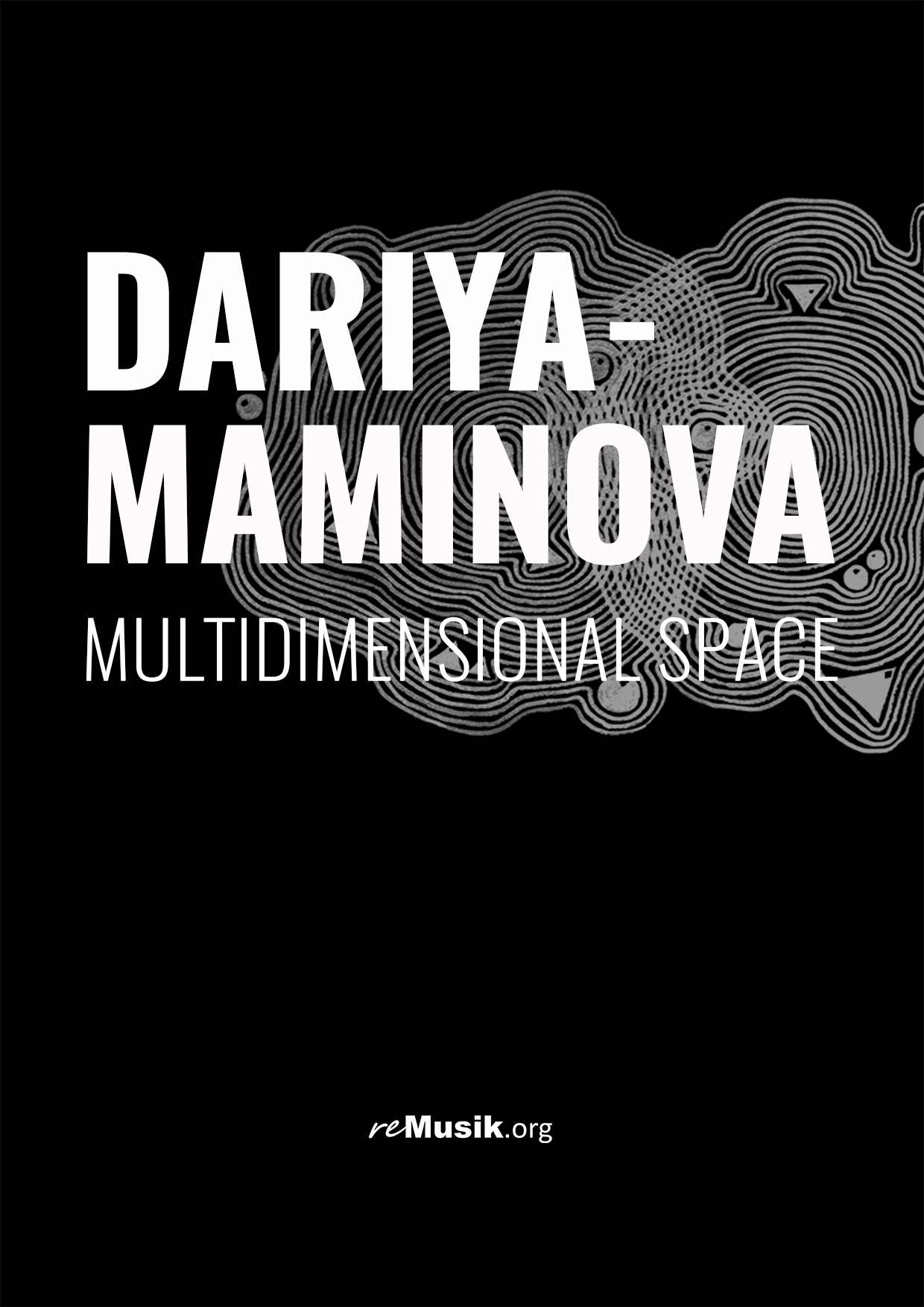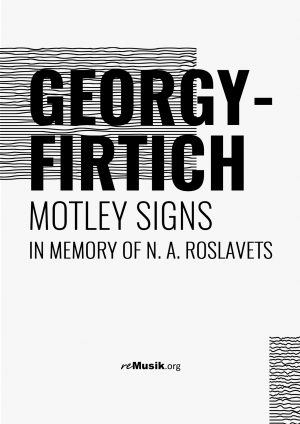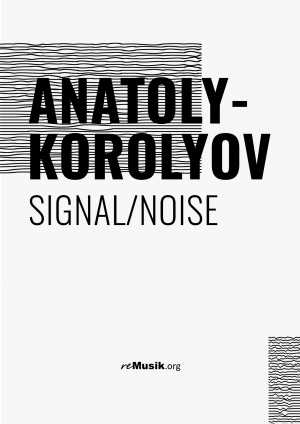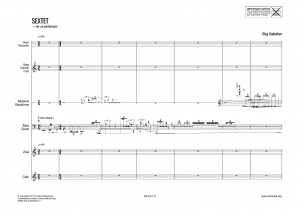Сергей Слонимский.
Эпоха симфоний в XXI веке.
Сергей Слонимский.
Эпоха симфоний в XXI веке.
22 февраля в Большом зале Санкт — Петербургской государственной филармонии им. Д.Д. Шостаковича прозвучит произведение С. М. Слонимского Симфония №21 «Из Фауста Гете». Премьера этой симфонии состоялась 17 января 2010 года на III фестивале «Новые горизонты» в Мариинском театре под руководством Валерия Гергиева.
— Сергей Михайлович, у Вас появляются новые идеи после прослушивания одного и того же произведения при исполнении его различными оркестрами? Если «да», то Вы их вплощаете в новом сочинении?
«Я бы сказал, что скорее просто выясняются некоторые незначительные описки в партиях и в партитуре, и к следующему исполнению они уже отсутствуют. Что же касается самого текста партитуры, то, если она написана достаточно уверенно и не второпях, то, как правило, партитура остается практически без изменений. Иногда в произведение вносятся какие-то оттенки, штрихи, какие-то детали, уточнения, но в целом концепция, конечно, остается неизменной. Каждая партитура должна выдерживать самую разную трактовку. Нехорошо, если сочинение должно исполняться однозначно, чтобы каждый оркестр или каждый дирижер играл совершено точно так, как предыдущий. И если говорить о недостижимой нам классике, то там каждый дирижер, каждый солист трактует сочинение по-своему, трактует с точки зрения артистической интерпретации. Вот это действительно интересно — разнообразие вносится уже не автором, а исполнителем. Я не люблю, когда сочинение играется только один раз. Оно, в принципе, должно выдерживать и предполагать самые разные исполнения, тем более, если это крупные дирижеры, такие как Валерий Гергиев или Николай Алексеев, который будет исполнять мою симфонию 22 февраля в Филармонии им. Д.Д. Шостаковича».
— Симфония №21. Сергей Михайлович, мы знаем, что замысел ее у Вас появился после знакомства со сценарием фильма (по мотивам поэмы Гете) кинорежиссера Александра Сокурова. Расскажите нам, пожалуйста, немного о ней.
«С Александром Николаевичем я дружу давно. Он замечательно поставил в Капелле мою оперу «Антигона» по Софоклу. К сожалению, это было однократное исполнение, но очень сильное по режиссуре и по музыкальному сопровождению. Александр Николаевич показал мне сценарий к своему фильму «Фауст», который очень далеко отходит от гетовского первоисточника. Это, в сущности, очень свободные, современные вариации, точнее даже сказать, метаморфозы произведения Гете. Я прекрасно знал, что музыку будет писать композитор и продюсер с которым он постоянно работает — Андрей Сигле. Поэтому я просто для себя написал целый ряд мотивов, и, прежде всего, «песню Маргариты», но не целиком, а лишь первую строфу в вокальном варианте (в оригинале на немецком языке), тему Фауста — сериальную, додекафонную, а также темы, связанные с Мефистофелем и Вальпургиевой ночью. У меня было довольно много музыкальных набросков по всему сценарию и мне захотелось их развить в симфонию «Фауст», которая не была бы похожа на симфонию Ф.Листа, естественно, любимую мною».
Сергей Михайлович, рассказывая о первой части — «Фауст» своей 21 симфонии, описывает ее тему, как серию, которая выражает раздумья Фауста, философскую рефлексию, с его поисками смысла жизни, поисками юности, поисками счастья, поисками полноценного земного недостижимости этой мечты, потому что она достигается только ценою жизни. Эти поиски прекрасного мгновенья, хотя бы одного, чреваты расплатой. Как только это прекрасное мгновение достигается, так кончается жизнь и Фауст попадает во власть Мефистофеля, то есть дьявола. Таково, смысловое, программное содержание нетрадиционной первой части симфонического полотна, которая представляет собой довольно сложное полифоническое (написанное в серийной технике) произведение.
Вторая часть контрастна первой. Это «песня Маргариты», которую она поет за прялкой, накануне своего заточения в тюрьму. Она тоскует об исчезнувшем Фаусте и готова на все, даже пожертвовать жизнью, чтобы быть вместе с ним. Маргарита — это страдающая женщина, вызывающая сочувствие, но она также является символом «вечной Женственности» символом того начала, которое возвышает душу человека и ведет его к бессмертию, в рай.
Сергей Слонимский при объяснении содержания третьей части «Вальпургиева ночь» рассказывает о том, как перекликаются «Фауст» Гета и «Мастер и Маргарита» Булгакова.
« В третьей части раскрывается мефистофельское в образе Фауста. Это не только звукопись блуждающих огней и каких-то инфернальных действ Вальпургиевой ночи, кстати, безусловно повлиявших на великий бал у Сатаны в романе Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита». В конце финала симфонии появляется и тема Фауста в полном, кульминационном изложении. В сущности, центральный герой — это мечущийся, ищущий и совершающий преступления- вольные и невольные, попадающий под власть дьявола, но стремящийся к свету, к идеалу человек. Финал можно назвать скорее трагическим. В этой симфонии нет претензий на то, чтобы изложить всю фаустовскую концепцию, тем более, обе его части. Но какие-то образы из второй части «Фауста» тоже предстают, особенно в финале симфонии, где очень большое значение имеют особые приемы звукоизвлечения у инструментов, музыкальная тема полета, бешеной дьявольской скачки, ритмы нагнетательные, инфернальные. Такова трехчастная программная симфония, можно сказать почти романтического плана, рассчитанная на самую широкую аудиторию, весьма контрастная по своему музыкальному языку. Первая часть очень сложна, вторая очень проста, а третья совмещает простоту и сложность».
— Сергей Михайлович, в интервью с Асей Соллертинской (Классика.FM, 27 января 2010г.), Вы отметили, что «симфония – это самая свободная форма, которая является выражением целого человеческого мира, и внешнего, и внутреннего; и это совсем не формосхема». Сергей Михайлович, нам очень интересно знать, чем отличается форма симфонии, написанной в настоящее время от традиционной формы?
«Мне кажется, что слушатели, дирижеры и исполнители в этом вопросе на несколько десятилетий впереди музыкальных критиков, которые все время мешают нам свободно работать в области симфонии. С одной стороны некоторые критики утверждают, что симфония- это устарелая, «отстойная» форма, ведь они представляют себе ее, как обязательный четырехчастный цикл с сонатным аллегро, анданте, скерцо и финалом. Между тем, это отнюдь не единственный на сегодняшний день тип симфонической композиции. А с другой стороны, наоборот — консервативные, не очень образованные ревнители классической формы, считают, что симфония должна состоять именно из четырех частей и что вообще она должна быть длинной и скучной. Это противостояние все время встречается в нашей прессе. Мне с одной стороны это очень мешает, потому что критики набрасываются с двух сторон на каждую мою симфонию, но, с другой стороны, это значит, что писать стоит, ведь когда критики недовольны, публика заинтересована, а исполнители и дирижеры охотно берут произведения, значит дело обстоит нормально.
Дело в том, что, действительно, симфония — это самая свободная форма сегодня, которая может быть выражена практически любым структурным принципом построения композиции. Это может быть и форма, состоящая из многих частей, которые перекликаются друг с другом, и которые слиты неразрывным единым развитием. Это может быть очень лаконичная форма, ибо после симфонии Веберна никак нельзя требовать от сонаты или симфонии обязательной длины — может быть расчет не только на минуты, но и на секунды. Наконец, это может быть та форма цикла, которую применял при написании ряда своих сонат Бетховен. В такой форме нет развернутой первой части и нет сонатной формы, может не быть даже вариаций. Последовательность может быть любая.
Например, моя Двадцатая симфония, которая недавно игралась в Петербурге на «Музыкальной Весне», а затем в Москве на съезде композиторов (и позволю себе сказать, была с немалым интересом принята слушателями, в основном молодыми): её первая часть — это сложная, ритмическая и тембровая композиция на одну ноту «до». С одной стороны, это пародия на мини-музыку, даже не пародия, а сатира на мини-музыку. Потому что модная ныне, мини-музыка бравирует тем, что там две — три ноты, один аккорд и так далее. Вот здесь уже предел мини-музыки — одна нота. С другой стороны, оказывается, что на эту одну ноту можно довольно разнообразно и в ритмическом, и в инструментальном отношении написать даже не просто вариации, а инвенции, чуть ли не сонатную форму построить на одной ноте.
Во второй части звучит контрастная ария, но это не «романс», как писал один глупый критик (извините) в «Музыкальной академии», а симфоническая ария с линеарным развитием, с очень певучей, длительной мелодией. Вообще, в симфонии все должно длительно развиваться. Ведь особенность симфонии в том, что это не мелкая форма, а развернутая музыкальная мысль, которая развивается интенсивно, не по количеству времени, а по непрерывности и неповторности развития.
Третья часть – это тройная фуга на три совершенно контрастные хроматические темы, а в конце, в коде, возвращается инвенция на ноте до, уже в виде праздничного заключения. Все струнники встают и в конце зрители видят некий инструментальный театр. Может быть и такое. Это в основном сатирически-гротесковая симфония. Между прочим, этот жанр есть у Шостаковича в Девятой симфонии, только он иначе выражен, а в некоторых симфониях или их отдельных частях даже каверзен.
Может быть симфония сугубо трагедийная, как, скажем, моя Десятая симфония «Круги ада» по Данте. Её девять частей – это девять кругов. В основе две серии, которые разворачиваются постепенно, как змеи. В последних двух кругах, в предпоследнем горизонтально, а последнем вертикально, выстраиваясь в аккорды, эти серии заполняют почти все пространство, будто в путах зла, в путах бесконечного мрака сжимается пространство звучания. А в конце вообще выключается свет в зале, и симфония завершается в полной темноте. Посвящена эта симфония «всем живущим и умирающим в России», то есть нам, тем людям, которые проходят круги ада при жизни и поэтому, быть может, могли бы быть освобождены от ада на том свете, потому что уже испытали это все – так плохо люди живут. Вообще, надо сказать, что для меня главная тема в симфонии — это очень плохая, очень затрудненная и беспокойная жизнь нынешнего порядочного, честного человека. Его неустроенность в мире, одинокость, его непрерывная борьба со всякого рода соблазнами, агрессией, хамством. Вечное противостояние бытовым, идейным проблемам, а также тирании, давлению со стороны власть имущих. Как эта тема, разнообразно воплощается в жизни, как разнообразен сам человек, так разнообразны и в музыке выразительные средства и формы. Симфония не может быть простенькой миниатюрой короткого дыхания. Это должно быть полотно большого дыхания с развитием музыкальных мыслей любых, в том числе мелодийных. Но если они мелодийные, то должны быть в ладовом отношении оргинальные, а не эпигонские; гармонии — индивидуально очерченные, а не взятые из арсенала романтической или прокофьевской гармонии. Если это полифонические средства, то они не должны сводиться к стилизованно неоклассическим формам в их исконном варианте. Мне кажется, что суть симфонии заключается в том, что это музыкальный дневник человека о нашем времени, о нашей очень страшной эпохе. Эпохе разделения людей на отдельные атомы, когда непрерывно происходит, борьба всех против каждого, каждого против всех, всех против всех. Ужасны предательство, давление на индивидуальность, всякого рода преследования честного, благородного, индивидуального в человеке. Если угодно, эту тему можно назвать романтической. Дело в том, что я, скорее неоромантик в музыке, чем неоклассик.
Что же касается форм, то они могут быть самые разнообразные — полифонические, гомофонные, сонорные, мелодийные, монодийные. Среди моих сочинений есть монодийная Симфония № 6. Она одноголосна, почти вся состоит из одного голоса в гипофригийском ладу и в других необычных ладах.
Восьмую симфонию, можно отнести к симфонии мотетной, одночастной. Это своего рода инструментальный концерт для струнных с трубой и колоколами. Большую роль играют четвертитоновые мелодические обороты, также, как и в Десятой симфонии или в Тринадцатой.
Тринадцатая симфония называется «Четыре стасима трагедии», но античная трагедия здесь не обозначена. Ее части — это стасимы, то есть «хоровые» высказывания, выраженные в инструментальной форме.
Одна из позднейших симфоний, Двадцать седьмая, посвящена памяти благородного Николая Яковлевича Мясковского, одного из уважаемых и любимых мною композиторов. Николай Яковлевич в творчестве относился к поздним романтикам.
Эта симфония недавно исполнялась в зале Чайковского в Москве под управлением Юрия Ивановича Симонова оркестром Московской филармонии. Мясковский — воспитатель многих композиторов. Его музыкальными внуками являются Шнитке, Денисов, Губайдуллина и многие другие. Я сам учился у Шебалина, ученика Мясковского. Несмотря на успехи в творчестве, его судьба была трагической. В сорок восьмом году, когда ему уже было около семидесяти лет, на него обрушилось постановление ЦК об опере «Великая дружба», где он был совершенно хамским образом огульно назван антинародным композитором. А через три года его не стало. В моей симфонии музыка лирическая и певучая, но нет стилизации под творчество Мясковского, нет его тем. Я дал это произведение в концерт, где во втором отделении звучал Третий концерт Рахманинова с пианистом — довольно знаменитым — Борисом Березовским (прошу не путать с олигархом), а в первом — Увертюра к опере «Эврианта» Вебера. На такую смешанную программу публика собралась очень охотно — набился полный зал. Все пришли на Рахманинова с модным пианистом. Но эта публика изумительно приняла 27 симфонию, потому что она певучая. С удивлением все присутствующие услышали, что в современной симфонии может быть мелодия, может быть длительное мелодическое развитие, что, кстати, тоже важно. Это сочинение как раз написано в форме четырехчастного цикла: сонатное модерато, скерцо (даже скерцо da capo), инструментальная ария (адажио) и финал в рондо-сонатной форме с трагической кодой. В данном случае был такой программный замысел – посвящение и ориентировка на тип симфонии времен Мясковского, Рахманинова, даже позднего Чайковского. Симфония писалась она очень естественно, никак не стилизаторски, а от души, эмоционально. Если образованный музыковед внимательно посмотрит, он увидит индивидуальные черты и в мелодии, и в ладовости, и в гармониях, которые звучат, может быть, благозвучно, но они не традиционные, что проявляется в каких-то особенностях, тонких деталях.
Я очень уважаю серьезных музыковедов. Многие из них пишут о моей музыке. Но терпеть не могу поверхностных музыкальных критиков. Поэтому у меня складывается очень странная судьба – каждое мое сочинение ( будь то опера, симфония, романс или, скажем, квартет) прежде всего, вызывает презрительные отзывы в обзорах, рецензиях – в разделе недостатков. А затем, через несколько лет – десять, двадцать, тридцать – о тех же опусах пишутся диссертации, иногда даже докторские, и защищаются успешно. Позитивные работы – в двух экземплярах, это, как правило, диссертации. А в миллионных экземплярах — «черный пиар». Пожалуй, меня это уже стало устраивать. Поэтому одну из последних симфоний, Двадцать восьмую, я посвятил (у меня такое развернутое посвящение, которое я собираюсь напечатать в партитуре) «моим музыкальным врагам, которые постоянно помогают бретеру- автору преодолеть скуку и лень, гневную реакцию перевести в творческую энергию. Чем больше запретов и брани — тем больше будет симфоний, тем заинтересованней аудитория». Вот такое развернутое посвящение, которого, вероятно, еще не было в композиторской практике я готовлю к печати! Цель-то этих людей на самом деле очень понятна – испугать театры, чтобы не ставили оперы — а то обругаем, испугать дирижеров, чтобы не исполняли симфонии данного автора — а то обругаем. Значит, кому-то я очень мешаю. Но есть дирижеры, которые этого не боятся. К их числу принадлежит Юрий Иванович Симонов, которого я считаю великим дирижером. Я просто с восхищением следил за его работой. Он провел шесть репетиций и из смешанной программы девяносто процентов отдал новому, никому не известному сочинению (моей Симфонии № 27), которое мог бы отыграть кое-как, ссылаясь на то, что так написано. И прочертил все свои эксклюзивные дирижерские оттенки и штрихи. Вот это, как раз то, чем может отличаться каждое исполнение – индивидуальными, эксклюзивными оттенками, вилками и штрихами, согласованными, конечно, с автором. Это были очень радостные для меня дни».
— Какие отличия Вы видите между Петербургской композиторской школой и западной? Особенно в период со второй половины ХХ века до настоящего времени?
«Абсолютно закономерный вопрос. Но для меня лично, как для музыканта-практика, понятие школы заменяется понятием индивидуальности. Я не берусь сформулировать, в чем общие черты питерской композиторской школы, хотя бы потому, что одно дело — школа Шостаковича, которая является официально признанной. Я застал конец сороковых годов, когда эта школа, наоборот, преследовалась, была новым для того времени, но, все-таки, за пятьдесят – шестьдесят лет это стало уже неким элементом благородного консерватизма. Очень многие композиторы просто подражают этому гению. Это одно. С другой стороны, есть, скажем, школа Щербачева – очень крупного петербургского композитора, несправедливо забытого, который придавал основное значение индивидуальной свободе каждого автора-симфониста и каждой отдельной симфонии. Из его учеников можно особо выделить замечательного композитора-новатора, недавно ушедшего, Люциана Пригожина, который, на мой взгляд, стоит на одном уровне с Денисовым, Шнитке и Губайдуллиной. Просто питерские музыковеды (я имею в виду, прежде всего, историков русской музыки) настолько вяло (кроме Т.Зайцевой) пропагандируют петербургскую музыку, что даже Балакирев, Глазунов и Лядов ещё не изучены в такой степени, в какой изучены Чайковский, Рахманинов, Метнер и даже Мясковский. С современными и недавно ушедшими композиторами происходит то же самое. Если москвичи справедливо пестуют, помнят и лелеют не только Губайдулину, Шнитке и Денисова (Губайдуллина, к счастью, жива – это мой большой друг и замечательный композитор), но и Сидельникова, Каретникова, Караманова, Леденева, то у нас все быстро забываются. И это очень плохо. Есть такая школа – школа Щербачева, которая носит очень свободный характер с точки зрения композиции цикла и музыкального языка, который не сводится к одним только ладам, открытым гениальным Шостаковичем, и к единым формам развертывания тематизма».
По мнению Слонимского, также нельзя утверждать, что и в западной музыке существует одна только школа. Он упоминает такие школы, как сонорная, минималистская, которые творчески изучают различный африканский, восточноазиатский фольклор, индонезийский гамелан и многое другое. Но, наряду с этими школами, есть и другие. Есть пост-сериальная школа патриарха Булеза. Есть творчество Мессиана, с его совершенно своеобразным ладовым и ритмическим языком, опять-таки, связанным с древневосточной, индийской музыкой. Очень много разных школ и направлений. Наконец, есть линия, которая малоизвестна в нашей музыке – это фольклорная линия славянских композиторов, таких как, Богуслав Мартину и Кароль Шимановский.
«Я очень люблю песни Мартину, его кантату «Букет цветов», и «Курпёвские песни» Шимановского, его же «Stabat Mater». Но ведь это не котируется на рынке авангардного производства, на фестивалях. А музыка эта абсолютно внятная для самого широкого круга слушателей, и, в то же время, не сводимая к примитиву Орфа или Филипа Гласса. Все это очень интересно для меня – мелодически и гармонически ясные линии, своеобразные, и, одновременно не примитивные, естественно-оригинальные, идущие от фольклора любой страны. Я считаю, что и русская национальная мелодика не сводится к школе Свиридова. Он писал так: диатоника — семь звуков, тональности преимущественно в минорных ладах, преимущественно в натуральном миноре. Ради Бога — у него это индивидуально! А может быть и по-другому: с косвенным хроматизмом, большей близостью к старой крестьянской песне с ее очень сложной разветвленной ритмикой. Мне такое ближе, начиная с «Песен Вольницы» и продолжая оперой «Виринея», симфониями, операми, например, «Видениями Иоанна Грозного». В этом направлении мне очень близка кантата Мартину «Букет Цветов». Орф мне менее близок, потому что его творчество чисто реактивное; такая реакция на авангард время от времени возникает. Орф – это реакция на шенберговские сериализм и ультрахроматику, а Филипп Гласс – на послевоенных пост-додекафонистов, например, на Булеза, на любимого мною Луиджи Ноно, который был, конечно, замечательным композитором, очень проникновенным, на Штокхаузена, Лигети и других. Это реакция в сторону сознательного примитивизма и близости к массовой культуре. У нас тоже есть такие композиторы. Они меня не трогают, хотя имеют свой рынок, а также агентов по рекламе и сбыту. Это мы все хорошо знаем. Но примитивная или упрощенная музыка не развивает человеческую сущность, не отвечает глубоким задачам искусства, не дает возможность воспитывать душу человека как в самом себе, так и у слушателя. Поэтому речь идет о большом разнообразии школ, как российских (не только питерских), так и западных. Европейские школы несколько отличаются от американских. Американские, правда, имеют мини-композиции, которые вторглись в Германию. Думаю, что во всех авангардных направлениях можно найти много рациональных и полезных элементов. Например, расширилось инструментоведение. Я считаю, что сфера инструментоведения, просто звукоизвлечения на каждом инструменте, стала таким же знаковым, таким же определяющим моментом многих школ, каким в эпоху Дебюсси, Скрябина, Равеля ( в начале ХХ века) была сфера гармонии, сфера аккордики. То, что открыли тогда импрессионисты — это никак не сбрасывается со счетов, все вошло в общий багаж, они создали замечательные произведения. Замечательные произведения создали также авангардисты Нового времени Луиджи Ноно, Лигети (с его Реквиемом), мэтр Булез, некоторые представители сонорной композиции — Варез, Крамб; Кейдж с его парадоксализмом. Достаточно вспомнить произведения Кейджа, основанные на индонезийском гимелане: «Аморес» — чудная, замечательная музыка. Разнообразие направлений большое. И для меня главное – индивидуальность автора. Все перечисленные мною композиторы — это индивидуальности, а не просто представители школы. Тоже самое можно сказать о Мессиане, о Лютославском, которого я очень люблю. Лютославский – крупнейший композитор, который нашел в бурном потоке современных школ и течений, свой фрегат, который шел очень уверенно. Это композитор с индивидуальным стилем, имеющим мощное влияние на многих.
Конечно, разговоры о конце композиторского творчества и конце жанров — это лукавство. Я не знаю, почему люди, которые сами продолжают сочинять, хотят запретить это делать другим. Я вообще против всякого рода запретов. Сейчас суть школы заключается в том, чтобы прекратить запрещать мелодию, прекратить запрещать гармонию, прекратить запрещать полифонию, прекратить запрещать сонористику, прекратить запрещать четвертитонику, прекратить запрещать все традиционные формы – от периода до сонатной, прекратить запрещать свободные нетрадиционные формы, прекратить запрещать симфонические произведения, прекратить запрещать вокал и так далее… Нужно стремиться к античной широте, которая была в древнегреческой и древневосточной музыке: должна быть предельная широта абсолютно всей музыкальной речи. Только так можно добиться нового качества в ХХI веке. Это новый ренессанс, я это так вижу.
Речь музыкальная во многом зависит от смысла и от того, к кому она обращена. Если вы обращаетесь к детскому саду, то не стоит писать «квантовое» по ритмике — четвертитоновое сочинение в духе моего же квартета «Антифоны». Если же ваше обращение — к ученым, которые познали высшую математику и ядерную физику, то не надо им предлагать детские песенки. Им можно и нужно показать те же «Антифоны» с их квантовой ритмикой, потому, что такое произведение близко к физике. Близость эта заключается в том, что ритмические единицы (одно из моих маленьких открытий, а может быть, и нет), не мензуральные, контролируются в пределах мельчайших импровизационных отклонений. Длительности записаны, белыми, черно-белыми и черными нотами без штилей или волнистыми штилями – как длинные, долгие, полудолгие, короткие, быстрые. Но нет двухмерной кратности равномерного ряда долгих и коротких долей. Вот это физикам понятно. Они уже любят принцип дополнительности Нильса Бора с непредсказуемыми мельчайшими изменениями пути и места нахождения электрона внутри атомного ядра. Движение его отчасти зависит от контролирующего прибора, а в музыке мельчайшие ритмические колебания – от конкретного исполнителя. А в детском саду еще рано говорить о теории относительности и о квантовой механике. Именно поэтому я считаю, что всякого рода догмы и методики в наше время, даже в преподавании композиции – крайне вредны. Нужно индивидуально подходить к творчеству и к педагогической работе. Все зависит от замысла сочинения, от индивидуальности ученика, от бережного индивидуального развития его творческой личности и знаний».
— Спасибо, Сергей Михайлович, за интервью.
Спасибо Вам.